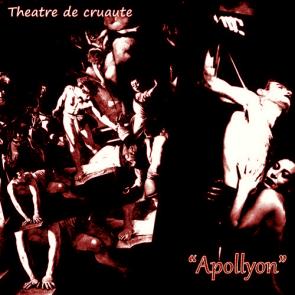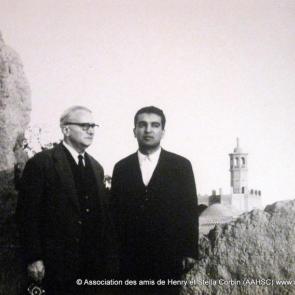Натэлла Сперанская
Théâtre de la Cruauté “Apollyon”
Квадратура круга
Театральные эксперименты с пространством
В черновиках Фридриха Ницше встречается заметка о том, что древние римляне смотрели театральные представления стоя. В те времена декорации античной драмы напоминали оформление территории храмов. Сцена была священным местом. Местом присутствия божества. Отношение к пространству может быть разным. Мы предлагаем нетрадиционные модели сценического пространства - в театре «Аполлион» пространство имеет центр, внутрь которого режиссёр помещает либо актёра, либо зрителя (в зависимости от поставленных задач). Зритель становится центром, когда в замысел входит окружить его действием, погрузив во внутреннюю атмосферу ритуала; в этом случае сцена исчезает, равно как и граница, отделяющая наблюдателя от перформера. Действие происходит в четырёх фиксированных углах зала. Это театральный квадрат. Сцена перемещается в центр, когда происходит призыв богов, и театральное искусство переходит в теургию. Между зрителями и актёрами по-прежнему нет границы, но теперь именно зрители окружают актёров, создавая живую мандалу. Это – сакральный круг, колесо, приводимое в движение эмоциями зрителей. Антонен Арто говорил, что зрителю «предстоит претерпеть настоящую операцию, опасную не только для его ума, но и для его чувств и плоти. Зритель должен быть уверен, что мы способны заставить его закричать». Спектакли Арто были обращением непосредственно к духу, он представлял их магическими операциями движением к идеальному театру, не знавшему запретных идей. Как бы мы ни использовали пространство, оно неизменно остаётся для нас сакральной областью.
В постановке «Жизнь человека» мы будем использовать оба принципа – квадрата и круга – создавая, таким образом, театральную квадратуру круга. Зрительские кресла ни в одном из случаев не предусматриваются. Каждое действие идёт в разных пространствах зала, разделённого на две части. Вместо занавеса – точно продуманная музыкальная партитура спектакля и игра света. Зрители перемещаются из зала в зал, всякий раз окружая актёров плотным кольцом.
Нам близки оригинальные идеи итальянского мастера Луки Ронкони. В спектакле «Orlando Furioso» он достиг чистого единства сцены и зрительного зала, отменив «сидящего зрителя». Спектакль происходил в церкви, действие – синхронно - в нескольких частях зала. Не менее удачный эксперимент Ронкони осуществил в своей постановке математического трактата. Спектакль был показан в старых мастерских театра Ла Скала. Он «продолжался один час пятнадцать минут и пятнадцать раз повторялся. Снова и снова, - рассказывает режиссёр. - В первом действии речь шла о некоем физико-математическом принципе. Во втором - что случилось бы, если бы человек жил вечно. В третьем рассматривался вопрос о воспроизведении реальности: то, что произошло здесь, уже не могло не быть где-то и, в конце концов, мир приходит к повторению. Дальше была история, где говорилось о бесконечности и о возможности путешествовать во времени. И каждый из этих эпизодов происходил в каком-то особом месте. Один игрался в одной мастерской, другой – в другой. Каждый эпизод могло посмотреть за один раз сто человек, не больше. Когда первые сто зрителей досматривали сцену до конца, они переходили на вторую площадку, заходили другие – и всё повторялось сначала. Но всё равно что-то менялось, эти эпизоды не были идентичны. Актёры постепенно покидали площадки и, в конце концов, в первом эпизоде оставался всего один человек, вместо, допустим, шести. А зрители после того, как прошли весь цикл до конца, могли вернуться и начать всё сначала. Они возвращались к тому же самому тексту – но тот выглядел уже совершенно по-другому. Актёров могло стать меньше или больше, их могли заменить совсем другие актёры – в общем, это была уже «не совсем та», искривлённая реальность».
Другой итальянец, Лукино Висконти, которого по праву называют театральным диктатором, был бескомпромиссным по отношению к зрителю – начиная спектакли ровно в девять вечера, он просил не пускать опоздавших в зал. Пространство действительно сакрально и приходить не вовремя есть его осквернять.
Theatre de Cruaute «Apollyon» ориентирован на архаические обрядовые формы, философию сакрального танца butoh, эксперименты с пространством и разработку новой актёрской методологии, коренящейся в переосмыслении теоретической системы Антонена Арто, основателя «театра жестокости».
Во многих странах Запада последователями французского социолога Жильбера Дюрана, создателя «теории имажинэра», были основаны Центры Исследований Воображения. В мае 2011 года российские исследователи глубинной социологии также открыли Лабораторию Имажинэра в Москве. Театр «Аполлион» возник одновременно с «Russes de laboratoire de recherche sur l'imaginaire».
Итальянский режиссёр Ромео Кастеллуччи постулирует идею первичности театра по отношению к жизни, Жильбер Дюран настаивает на первичности l'imaginaire. В «Антропологических структурах воображения» Дюран предлагает новый подход, а именно изучение логоса посредством мифоса – здесь его существенное отличие от классического подхода, т.е. изучения мифоса через логос. L'imaginaire как воображаемое-воображающее -воображение создаёт «внутреннее измерение субъекта и объекты внешнего мира». В топике социологии глубин, l'imaginaire есть реакция человека на смерть. Принимая заключение – театр есть пространство имажинэра, мы придём к выводу, что театр представляет собой реакцию человека на смерть (или время). Театр – это ответ на смерть. Главным для нас является человек как антропологический траект (пояснение этого понятия последует далее). Нужно заметить, что в 1979 году ученик Ежи Гротовского, Эудженио Барба, открыл Международную школу театральной антропологии, его фундаментальный труд «Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя» стал результатом практических исследований актёрского искусства. Отсутствие параллелей между театральной антропологией Барбы и социологией воображения Жильбера Дюрана говорит о многомерности интересующей нас темы и необходимом углублении изучения театрального искусства, что, безусловно, входит в поле деятельности «Russes de laboratoire de recherche sur l'imaginaire».
Театральная майевтика
Разрыв как начало трагедии
Театр ставит вопросы. Тот, кто пришёл получить готовые ответы, пожаловал не по адресу.
Театр есть платоновская майевтика («повивальное искусство) – он побуждает человека искать знание путём правильно заданных вопросов.
Ромео Кастеллуччи настаивает на ошибочности общепринятого мнения о том, что проблемой трагедии является смерть. Не смерть, но «сам факт жизни, принадлежности в силу рождения к тому или иному сообществу». Итальянский режиссёр указывает на возникновение некоего разрыва (либо с обществом, либо внутри самого человека), с которого и рождается трагедия. В основе трагического действия лежит закон, нарушаемый, преступаемый трагическим героем, поэтому все трагедии, по словам Кастеллуччи, «показывают тёмную сторону закона, которую, как и тёмную сторону Луны, никто никогда не видит: они высвечивают присущую закону несправедливость и подразумеваемое законом насилие». Отсюда артодианская жестокость, мыслимая как космическая непреложность, представляет всё тот же закон в действии.
В труде «Рождение трагедии из духа музыки» Фридрих Ницше обращается к читателю как ученик ещё «неведомого бога», как знающий и посвящённый. Пока мы не ответим на вопрос, что такое дионисическое начало, мы не поймём греков, - утверждает философ. Прежде всего, Ницше ставит вопрос об отношении греков к боли. Он исходит из предчувствия, что стремление греков к красоте, к прекрасному, к веселью, к новым культам, было вызвано чувством боли, меланхолией, недостатком (свидетельство чего мы, в частности, находим в великой надгробной речи Перикла). В философской антропологии используется термин Mangelwesen Арнольда Гелена. Человек есть «недостаточное существо». Mangelwesen взывает к радости, к веселью, к тому, что способно восполнить его недостаточность. Однако, возникает другой вопрос: чем было вызвано противоположное стремление – к безобразному, к злому и страшному, к загадочному и чудовищному, наконец, к пессимизму? Что влекло человека к тому, что можно назвать основой трагедии? Ницше допускает, что страдание может возникнуть от чрезмерной полноты. Бог, по его словам, «создавая миры, освобождается от гнёта полноты и переполненности, от муки сдавленных в нём противоречий». Таким образом, мы должны говорить о «пессимизме силы» и «оптимизме слабости», «оптимизме бессилия».
Ницше заключает, что греки становились всё радостнее, оптимистичнее и, вместе с тем, поверхностнее, именно во времена их наибольшего упадка. В наш век, век Кали, можно наблюдать человеческое стремление к зрелищам низшего характера, увеселительным развлечениям, не имеющим никакого отношения к искусству, которое Ницше называл высшей задачей и метафизической деятельностью человека. Если существование мира он оправдывал лишь как эстетический феномен, то нынешний мир, чьё существование давно ставится под вопрос, не заслуживает ни оправдания, ни прощения, ни помилования. Слово в театре мертво, как бог, изгнанный из его сакрального пространства и самой западной цивилизации. Кастеллуччи говорит, что задача театра - пробудить Слово, «пробудить текст к жизни, вдохнуть в него жизнь. Потому что каждая попытка вдохнуть в текст жизнь имеет очень большое сходство с похоронным культом». Возможно, что даже любые попытки вернуть театр к ритуалу, всё более походят на похоронные обряды. Но что значит смерть в театре, отвечающем на вызов времени - взором, направленным к вечности?
Столкновение с Ничто
Метафизический театр Антонена Арто
По мнению Хайдеггера, столкновение с ничто происходит посредством переживания экзистенциального страха, абсолютно отличного от обыкновенной боязни (философ подчёркивает разницу между die Angst и die Furcht). Именно экзистенциальный страх обнажает перед нами ничто, вызывая гнетущее неописуемое чувство. С ускользания сущего начинается открытие не-сущего, «того, чего нет», чистой стихии ничто, о котором мы не вправе даже спрашивать. Наука, предметом изучения которой всегда являлось сущее, овеществляет, опредмечивает задаваемый ею вопрос, тем самым оказываясь в подчинении у сущего. В поле научной деятельности не входит ничто, наука его просто не знает и не хочет знать. Предельно ясно, что, пытаясь дать определение ничто, мы начинаем считать его «чем-то», подгоняя под категорию сущего, коим ничто, безусловно, являться не может. Хайдеггер заключает, что «как вопрос, так и ответ о ничто равно нелепы». О ничто нельзя даже мыслить – на том простом основании, что мыслить можно только о «чём-то». Размышляя о ничто, мы занимаемся его овеществлением, однако ничто не уподобляемо вещи, ибо ничто не есть сущее. Переживая экзистенциальный страх, мы лишаемся слов, мы погружаемся в безмолвие, в неуничтожимость парализующей нас тишины. Исчезает также любое «я», любое «ты», нет места признанию «мне страшно» - нет самого «меня», но есть «кто-то», избегающий идентификаций. Ergo: «В этой неопределённости и смятении остаётся одно только чистое здесь-бытие, которому более не на что опереться» (Хайдеггер). Присутствие ничто утверждает отсутствие сущего. Лишившись слов, мы можем апеллировать лишь к жесту и крику, как это делал Антонен Арто. Крик был для него не столько реакцией на экзистенциальный страх, сколько противодействием этому иррациональному состоянию.
Чтобы кричать, мне необходимо падать.
Это оглушительный крик воина, который, вторгаясь в неистовый звон зеркал, разрушает их хрупкие стены.
Я падаю.
Я падаю, но не испытываю страха.
Я исторгаю свой страх в шуме ярости, в торжествующем реве.
Но для этого оглушительного крика, мне необходимо падать.
Я низвергаюсь в ад и не могу из него выбраться, я никогда не смогу выбраться.
И здесь - обвал.
Крик, который я только что исторгнул, есть сон.
Но сон, поглощающий сон.
В «Новых проявлениях бытия» Арто писал о своём отказе броситься в ничто, в пустоту. Он знал не только что этого мира не существует, Арто обладал куда более опасным знанием: «Я знаю, как именно он не существует». Его борьба с формами (с физическим миром) приобрела угрожающий характер именно под воздействием этого знания. Разрушительный огонь, что превращал любую вещь в не-вещь, сопровождал каждый экзистенциальный ритуал Арто. Всякое уничтожение, изъятие вещи с проявленного плана, было жертвоприношением ничто, выбрасываем «чего-то» в пустоту. Арто был околдован не-сущим. «Нужно как можно глубже рассмотреть инициируемое экзистенциальным страхом преображение человека в его здесь-бытие и попытаться уловить открывающееся в этом состоянии ничто», - писал Хайдеггер. Этим Арто занимался сначала на сцене «театра жестокости», а затем и в своей жизни, стерев границу между двумя обыкновенно разделяемыми сферами. В состоянии экзистенциального страха, человек сталкивается с ничто только вместе с сущим. Ускользая, сущее не уничтожается. Ускользая, сущее ничтожится, то есть, обнажает свою незначительность, ничтожность – перед лицом чистого ничто. Театр жестокости и его метафизически ориентированные техники, позволяют нам не потеряться в сущем, утратив возможность столкновения с ничто, ибо будят постоянно находящийся здесь спящий экзистенциальный страх, «всегда готовый к прыжку». Театр, основателями которого мы становимся, с необходимостью ставит только метафизические вопросы.
«Жестокий театр» как практическое исследование имажинэра
Актёр «жестокого театра» есть антропологический траект и, наравне с самим театром, распят между миром богов и миром людей; он представляет собой имажинэр (воображаемое-воображающее-воображение); как поле теургических операций театр имеет триадическую структуру: театр внутренний (актёр как алхимический тигль, осуществляющий радикальные опыты, - воображающее), театр внешний (сценическое пространство, - воображаемое), между которыми располагается имажинэр (воображение) как то, что есть и то, что первично. Зритель, отождествляясь с актёром-проводником, театральным pontifex (лат. «строитель мостов»), становится сопричастным миру метафизических образов, mundus imaginalis.
В основе театральной практики Арто лежит принцип разрушения формы как она есть, снятие личностного начала, что находит свои истоки в восточной концепции Пустоты («Шуньи» или «Шуньяты», «пустотности»). Тут очень важно не воспринять пустоту как физический вакуум. Шунья – довольно сложная концепция. Она есть та пустота, то состояние, в котором не происходит переживания каких-либо объектов. Собственно говоря, это и есть отсутствие объектов, отсутствие объективного сущего. Так понимают термин «Шунья» в кашмирском шиваизме. В буддизме махаяны пустота является психическим состоянием, снимающем противопоставление бытия и небытия, реального и нереального. По отношению к истинной реальности «Шунья» представляет собой коннотат Абсолюта. Интересно отметить, что в редких случаях этим термином обозначают стремление того или иного существа выйти за пределы феноменального мира, то есть, совершить акт трансгрессии. Форма – это то, что подвержено разрушению, а значит, находится во власти времени и смерти. Арто ставил перед собой задачу уничтожить форму, ибо любая форма есть враг, как смерть и время есть враг для дневного режима воображения. От разрушения формы Арто шёл не только к волевому преодолению границ материального плана, - теоретик «жестокого театра» делал шаг от диурна к драматическому (или «синтетическому») ноктюрну, - в ритмическом жестоком танго он порождал связь между всеми противоположностями, но избегая отождествления (субъекта с объектом, света с темнотой и т.д.) свойственного мистическому ноктюрну.
«Жестокий театр» требует от зрителя внутреннего соучастия:
«Мы разыгрываем собственную жизнь в спектакле, идущем на сцене. Если у нас не будет достаточно ясного и глубокого ощущения, что какая-то частица нашей сокровенной жизни задействована там, внутри, мы не станем продолжать наш опыт. Приходящий к нам зритель должен знать, что ему предстоит претерпеть настоящую операцию, опасную не только для его ума, но и для его чувств и плоти…Зритель должен быть уверен, что мы способны заставить его закричать».
Актёр «жестокого театра» (театра, отвергающего банальную имитацию жизни, иными словами, театра, не желающего быть всего лишь симулякром жизни, а театра, как подлинной реальности) подобен поэту-изгнаннику, брошенному в некое «между», как Мартин Хайдеггер сказал о Гельдерлине. Арто не интересовала та реальность, что ублажает взор двуногого большинства, навевая гипнотический сон и неустанно программируя спящих. «Постижение реальности, которая сама по себе заведомо лишена духовной перспективы, является для субъективного начала ненужным бременем», - вспоминаются слова Гейдара Джемаля («Ориентация-Север»). Что в таком случае говорить о том, каким бременем она становится для антропологического траекта. В промежуточной точке феноменального мира (смерти, заключившей пакт с временем) и «театра жестокости» (имажинэра) рождается спектакль, обретающий статус фатальной неизбежности.
Идея театра, по Арто, может иметь смысл лишь в своей магической связи с реальностью и риском, предельной опасностью. Арто видел необходимость в создании метафизики слова, жеста и выражения. Его внимание было направлено на концепции космического порядка, то есть, на идеи сотворения, становления и разрушения. Слова (а также жесты) должны стать заклинаниями, спектакль – ритуалом. Театр способен быть траектом, находящимся между миром богов и миром людей, если он «предъявит зрителю неоспоримые свидетельства его собственных грёз и сновидений, где тяга к преступлению, эротические кошмары, зверства и химеры, несбыточные представления о жизни и мире, даже позывы к каннибализму вырвутся наружу уже не в мирном иллюзорном плане, но из глубин его собственного бытия». Лишь при соблюдении этих условий, по мнению Арто, можно говорить о праве театра на воображение, на имажинэр. Место человека основатель «жестокого театра» определял как нахождение между сном и событиями реальной жизни. Человека как антропологического траекта. Возникновение нового театрального языка Арто связывал с режиссурой как таковой, где режиссёр понимается как «единый творец, на которого падает двойная ответственность за спектакль и за развитие действия». Словом, здесь исчезает резкое разделение на режиссёра и автора. Мы имеем целостную фигуру, осуществляющую демиургическую работу. Арто, видевший истинную цель театра в создании Мифов, сосредоточивал своё внимание на индийской, иудейской, иранской, мексиканской и других космогониях, черпая вдохновение в древних текстах. Он отказывал в звании создателя всякому, кто был лишён непосредственного руководства сценой. Режиссёр, создатель, был центром, был богом. «Режиссёр – это хозяин», - вспомним знаменитую фразу Дэвида Линча.
«Весь древний театр был битвой с судьбой», - пишет Арто в своей работе «Человек против судьбы». Это диурн, дневной режим имажинэра.
Вадим Максимов, автор книги «Эстетический феномен Антонена Арто» заключает, что посредством реализации архетипического уровня сознания происходит рождение сверхчеловека. Тотальное освобождение от личности позволяет траекту, а именно актёру, превратиться в своего Двойника. Двойник – одна из ключевых концепций Арто (здесь мы снова можем сделать заключение о драматическом ноктюрне). Если рассматривать личность в её трансцендентальном измерении, то есть, как unus-ambo по своей структуре, то Двойника Арто можно соотнести со световым человеком и обнаружить глубинную связь с Ликом, который Сухраварди обозначал термином Совершенная Природа, и который выступает у Наджма Кубра как «личный духовный Вожатый», «горний Свидетель», «Солнце Высшего Познания». Анри Корбен говорит о Совершенной Природе как о «Лике Света, Образе и зерцале, в которых мистик созерцает – и без которых он не мог бы созерцать – теофанию в форме, соответствующей его собственному существу». В книге «Световой Человек в иранском суфизме» Корбен пишет, что все существа имеют свой Лик-архетип, небесное Alter ego, порой вступающее в отношения с земным двойником.
Mundus Imaginalis– промежуточный мир, находящийся между божественным и человеческим. Это место встречи человека и Бога. В суфизме, в частности, в школе Ибн Араби, существует специальный термин для обозначения Mundus Imaginalis– это «алам аль - хаял». В нео-зороастрийском платонизме Сухраварди Mundus Imaginalis (алам аль-мисал) также называется «Небесной Землёй Хуркальи», миром, принадлежащим плану ангелологии. Мы способны обрести подлинное знание – знание, которое, согласно Анри Корбену, представляет собой «онтологическое «озарение», усвоение таких объектов «изнутри себя», или, вернее, от существа более высокого уровня, чем мы», - это знание мы можем получить при встрече с упомянутым существом только в Mundus Imaginalis, мире образов-архетипов. По сути, вся театральная практика Антонена Арто была обещанием этой встречи.
Двойник, фундаментальная концепция, лежащая в основе «жестокого театра», является тем Световым Человеком, о котором мы читаем у Корбена. Арто жаждал проникновения в Mundus Imaginalis, потому как хорошо понимал, что не будь этого промежуточного мира, Божественное и человеческое никогда бы не встретились, и тот мучительный разрыв, наблюдаемый нами в эпоху постмодерна, когда, говоря словами Готфрида Бенна, человек «обесславил слово» и «обескровил миф», стал причиной того, что духовная пустыня столь расширилась, что каждый оказался жестоко вырван из первоистока своего внеземного бытия, и утратил связь с миром образов-архетипов. Ницшеанское «Бог умер» как никогда актуально. Но не значит ли это, что вслед за ним умер и человек? Вопрос едва ли требующий ответа.
Вернуть человека к жизни можно только одним способом – необходимо пробудить в нём тот духовный «орган», что позволит ему воспринять Mundus Imaginalis (мы признаём, что слово «орган» следовало бы заменить на более подходящее и приближенное к тому смыслу, что мы имеем в виду, поэтому мы прибегнем к обозначению, часто употребляемому Рене Геноном , то есть, к «интеллектуальной интуиции», ), что приведёт к образованию связи между божественным миром и миром человеческим. Мы предлагаем рассматривать театр как одну из возможностей пробуждения. Для Арто театр был ничем иным, как живой метафизикой, «хранилищем энергии, образованным мифами», иными словами, имажинэром. Возродить человека – не значит вернуть к жизни бездыханный труп, организуя «вечное возвращение одного и того же», - рождается Световой Человек, прорываясь сквозь тленную «скорлупу» земного Адама, через низменное «человеческое», которое Арто в одной из своих статей сравнивает с падалью.
Рене Генон писал, что «там, где не признаётся интеллектуальная интуиция, не может быть никакой метафизики». Око познания, Jnana-chakshus, интеллектуальную интуицию ни в коем случае не следует путать с обыкновенной интуицией, связанной с чувственной, субрациональной сферой.
Для того чтобы приблизиться к пониманию Антонена Арто, строго необходимо внести определённую ясность в отношении двух концептов – Тени и Двойника. Сам Арто был склонен к их отождествлению и результат его лабиринтальных блужданий печально известен.
Я полагаю, что мы можем говорить о Двойнике как о некоем мосте, ведущем к «Солнцу Высшего Познания», к Духовному Вожатому, к Ангелу, наконец, к интеллектуальной интуиции. В таком случае, мы можем прийти к выводу, что если Двойник открывает «ангелический» путь, то Тень, будучи мостом к другой инстанции (назовём её «тёмным дублем»), являет собой путь «демонический», и оба эти пути пролегают во тьме. Не будем забывать о двух аспектах тьмы, ибо, помимо тьмы материи есть сияющая Темнота (чёрный Свет, Божественная ночь сверхбытия).
Тень есть то, что сковывает, удерживает светового человека в плену – в плену формы. Чтобы быть, Тень должна объять собой форму, которая её и отбросит. Двойник – это «свет сверхсознания, исходящий из Тьмы подсознательного», именно поэтому Антонен Арто акцентировал внимание на воздействии на бессознательное зрителя».
Становится всё более очевидным, что сегодня нужны другие актёрские техники, другой подход к сценическому искусству в целом. Актёр (антропологический траект) "жестокого театра" должен освободиться от личностного начала и посредством духовной апперцепции открыть в себе трансцендентное измерение.
Арто нередко употреблял египетское обозначение Двойника – Ка. Версий о том, что же представлял (а,о) собой Ка среди египтологов очень много, но я выделю самые известные. Прежде всего, это гипотеза Масперо, согласно которой речь шла о дубле, точной копии человека; этот дубль был материальным, но состоял из более тонкой субстанции, чем человек. Масперо считал, что к таким дублям, например, можно отнести статуи. Другой исследователь – Штайндорф – назвал Ка защитником человека, Genius. Для Альтенмюллера Ка была жизненной силой, а также причислялась к духам-защитникам.
Для египтян мир мёртвых был миром Двойника, или миром теней. В свете артодианских размышлений это говорит о многом. В статье «Чувственный атлетизм» Арто пишет о Ка как о «вечном призраке, излучающем силы чувственности».
Интересна взаимосвязь между Ка и концепцией Имени.
Когда актёр играет какую-либо роль, он на время берёт себе другое имя. Он превращается в форму, в сосуд для принятия определённой Силы. Что при этом происходит с его Тенью? Поглощается ли она другой? Скажем, если некто играет булгаковского Воланда, то не бывает ли «изгнана» его Тень (при условии, что ему вообще удалось её вызвать) и замещена более могущественной, а именно той, что репрезентирует Воланда? Всем известны истории с «проклятыми» ролями: актёры, игравшие Ивана Грозного, нередко внезапно умирали; Н.Варлей, сыгравшая ведьму в фильме «Вий», тяжело заболела и была вынуждена отказаться от съёмок на долгие годы, погрузившись в инфернальное состояние. Не задумывался ли кто-нибудь, что существует роли, играя которые, в тот самый миг, когда поднимается занавес, актёр оказывается полем битвы: битвы двух Теней – его собственной и той, что была вызвана из промежуточного мира, Mundus Imaginalis? И тяжёлые последствия являются признаками того, что победу одержала последняя. Часто цитируя известные слова Антонена Арто «Как всякая магическая культура, выразившаяся в соответствующих иероглифах, истинный театр тоже отбрасывает свою тень», при этом не придавая значения заключительной фразе: «Только в театре, единственном из всех искусств, живут тени, разорвавшие свои границы и, можно сказать, не терпевшие их с самого начала». Арто утверждал, что пространство заполнено целиком, заполнено тенями; в сакральном пространстве театра антропологический траект находится в окружении Сил, для которых не играет особой роли, замечает ли кто-либо их присутствие. Но перед актёром «жестокого театра» стоит задача назвать тень по имени и подчинить своему контролю, «тогда человек станет бесстрашным владыкой того, что ещё не существует, и поможет ему обрести существование».
Арто взывал к Иному с той же силой, с какой огонь испепеляет формы, добираясь до пустотной черноты их невесомого пепла. Основатель «театра жестокости» искал иероглифический жест, - тот жест, который мы можем обнаружить в ритуальном танце темноты, а именно в Butoh.
Это речь до слов, Слово до Слова. Тело и дух в буто не существуют раздельно, философия этого танца, а вернее сказать, формы, предшествующей танцу, неразрывно связана с эзотерическим буддизмом. Тело актёра (танцора) представляет собой сосуд, который следует опустошить, освободить от личностного начала, дабы сделать его вместилищем некоей Силы. "Вы должны убить ваше тело, чтобы построить сознательное тело. И это будет моментом свободы», - учит Акаи Маро. Развитие буто приходится на конец 50-х. Изначально ритуальный Танец Темноты был направлен против реакционной Японии под американским управлением. Вдохновителями буто были Антонен Арто, Лотреамон, маркиз де Сад; теоретической основой можно называть опять-таки театральную концепцию Арто, и наработки Хиджикаты и Кацуо, ставших создателями перформанса с опорой на «Песни Мальдорора» графа Лотреамона.
В буто мы встречаем отсутствие формы и личностного начала. Известный хореограф Мин Танака рассказывает о методе обучения мастера Хиджикаты следующее: «Он использовал приблизительно тысячу образов природы для работы с телом, и я должен был помнить каждый. Каждый день он изменял порядок движений. Образы - такие элементы, как ветер или свет, он использовал, чтобы выразить не форму, а вдохновение. Движения были естественны. В хореографии не было личности». На мистический ноктюрн здесь указывает наличие концепции недвойственности: прежде всего, «тело-духа», но также любопытно рассмотреть психосоматическую систему Такеучи: в её основе лежит утверждение, что тело и слово представляют собой неразрывное целое, которое ни в коем случае нельзя разделить на два элемента. Такеучи употребляет обозначение «karada-to-kotoba», что означает «тело-слово как единое существо». То есть, идея единения, которую мы здесь встречаем, ясно указывает на мистический ноктюрн. Кроме того, полное отсутствие прыжков в танце, направленность тела и движений к «земле», сведённая на нет динамика, ориентированность на мирное пребывание в бытии – говорят нам о мистическом ноктюрне. В буто нет танцора и пространства по отдельности – сам танцор становится пространством. Вспоминаются слова Мина Танаки: "Я не танцую в пространстве, я есть пространство". В буто также нет смерти: мастер Хиджиката сравнивал буто с Кадавром, который ценой любых страданий стремился выпрямиться. Мёртвое тело, способное танцевать. И однако в буто мы можем обнаружить и следы диурна, а именно в отношении танцоров буто к времени. Танец Темноты должен прерывать, останавливать время. Великий мастер Хидзиката учил, что «мы можем обрести буто, соприкасаясь со своей тенью». Тень – ещё одна важная концепция в театральной системе Арто. По его мнению, Тень отбрасывает любой истинный образ, «но как только художник, творя образ, начинает думать, что он должен выпустить тень на волю, иначе её существование лишит его покоя, - в тот самый момент искусство гибнет». Арто считал, что подлинный театр имеет свою тень. Тень есть и у театра, и у антропологического траекта (актёра). Что есть тень воображения, имажинэра? И имеет ли антропологический траект дубль? Вопросы, на которые нужно искать ответы.
Существует большая вероятность того, что мы смешаем две концепции – Двойника и Тени, перестав делать различие. Этого не удалось избежать даже Арто. Тень есть там, где признаётся наличие формы, Двойник же возникает вне зависимости от формы, ибо исток его – вне мира творения.
Антопологический траект жестокого театра не говорит на обыденном человеческом языке, ибо знает ЯЗЫК ОГНЯ. Огонь как источник света позволяет Тени быть. Чтобы возник Двойник, язык огня должен испепелить формы.
Де Кирико тоже шёл к разрушению форм, но разрушая старые, он тут же созидал новые причудливые формы: его персонажи никогда не умирали лишь потому, что никогда не были рождены – они составлены из фрагментов. Они не есть «Слово, ставшее плотью». Они – молчание вещи. Де Кирико показал, насколько несовершенно творение Демиурга. Это относится к тем его полотнам, на которых художник запечатлел безликих фрагментарных людей, не утерявших способности чувствовать. Кирико – поэт не времени, он – поэт пространства.
Арто предлагал излечить болезнь мира Жестокостью, а именно СОЖЖЕНИЕМ МИРА, преданием его очистительному огню, что я, как режиссёр, и сделала в своей постановке, названной «Концом иллюзии».
В дневном режиме, режиме диурна, Тень представляет собой Другого, смерть, а значит воспринимается как враг. Нужно отметить, что Тень, отождествляясь с ночным режимом (ноктюрном) порождает раскол внутри диурна. В мистическом ноктюрне Тень есть Ночь, сам ноктюрн, - здесь исчезает всякая двойственность. В драматическом ноктюрне Тень скорее танцор, подобный Натарадже, - именно так воспринимает Тень Арто, кружась с ней в космическом танце, разрушающем вселенные.
Можно сказать, что театральная система Антонена Арто была направлена на освобождение светового человека, заключённого во тьме. В трудах уже упоминаемого мной Корбена мы сталкиваемся с иной антропологией. Итак, есть земной человек, Адам, пребывающий во власти элементов и есть его противоположность, духовный человек, или световой, как его именуют в иранском суфизме. Духовный человек – это Фос (Phos с греч. означает «свет», но также и «человек», «индивид»). Корбен предлагает воспринимать его как архетип людей света; мыслитель ассоциирует его с Прометеем. Прометей направляется на восток, откуда приходит свет. Мы не должны полагать, что речь идёт о географическом востоке, потому что здесь говорится о родине Чистого Света. Суфии учат, что Фос не может быть в союзе с земным Адамом, потому что «Свет не сопрягается с диавольской Тьмой», и «Сигизия света – это Прометей-Фос и его вожатый, «сын божий». Арто, мечтавший о теле без органов и предвещавший наступление времён, когда люди будут размножаться посредством телепатических импульсов, желал освободить светового человека, взывая к нему как к Двойнику. Тело, как одну из форм, он должен был разрушить, но, повинуясь необходимости в столь несовершенном, но всё-таки инструменте актёра, подвергал его воздействию «театральной алхимии», вживляя метафизику под кожу. Световой человек, Двойник в «жестоком театре» одновременно представляет собой Созерцающего и Созерцаемое, Чистый Свет, встретивший первозданную Тьму, узнавший в ней себя и перешедший в светоносную Ночь.
Для именования актёра другой режиссёр, польский мастер Ежи Гротовский, вводит обозначение «перформер». Это человек действия, «бунтовщик, который должен покорить знание, и даже если он проклят окружающими, он всё равно ощущает свою непохожесть, он как аутсайдер». Гротовский приводит в пример индуистских «вратий», тех, кто идут покорять знание. Перформер Гротовского был воином, ищущим опасности. Более того, воином, который не может существовать, не подвергая свою жизнь риску. «В момент принятия вызова различные пульсации человеческого тела сливаются в едином ритме. Ритуал - это момент напряжения. – пишет Гротовский. - Спровоцированного напряжения. Жизнь становится ритмичной. Перформер способен облечь импульсы своего тела в звуки. Жизнь свидетелей ритуала становится более напряженной, они говорят, что чувствуют чье-то присутствие. Так Перформер выстраивает мост между свидетелем и чем-то еще. В этом смысле Перформер - это pontifex, делатель мостов». Вновь мы имеем дело с диурном. Гротовский много экспериментировал с пространством. На вопрос о том, что такое театр, он ответил: «В театре не нужно излишеств: костюмов, декораций, музыкального сопровождения, световых эффектов. Пусть театр будет бедным». Гротовский непрестанно выходил за все мыслимые границы: уничтожить кулисы, уничтожить всё, что призвано разделить театральное пространство на зоны и секторы, всё, что препятствует слиянию актёра и зрителя. От концепции бедного театра Гротовский переходит к идее полного освобождения – его театральные эксперименты продолжаются уже на берегах рек, в лесах, под открытым небом. Режиссёр приходит к убеждению, что зритель как участник действа более не нужен. Если Арто настаивал на зрительском соучастии, то Гротовский не видел в нём никакой необходимости.
Функцию режиссёра Гротовский определял своеобразно. Он обращался к даосской философии и говорил о сути колеса, которая «есть точка пустоты, вокруг которой вращается колесо». Этой самой точкой и был для Гротовского режиссёр. Спектакли этого человека бросали вызов. Жизнь должна оставаться опасной. Как только из неё изгоняется опасность, жизнь становится умиранием, чья длительность более не важна. Такие качества, как горение и текучесть, то есть качества, присущие двум стихиям – Огню и Воде, перед лицом настоящей опасности переходят к ролевому обновлению, - перед лицом подлинного риска жизнь обнажается до костей Мысли, и Огонь начинает течь, в то время как Вода – возгораться. Опасность есть то, что предотвращает распад. Гротовский говорил, что «когда мы стремимся непосредственно воплощать великие ценности, мы вступаем на грань помешательства, мы безумеем». Во время спектакля «Каин» (по Байрону) в пространстве появились не Бог и Люцифер, а иные, никем не ожидаемые герои – Альфа (воплощение стихийных сил природы) и Омега (воплощение разума). Гротовский добивался выхода за пределы манихейских представлений о добре и зле, он показывал всеобщность, целостность, коими были Альфа и Омега, первый и последний. Здесь мы имеет дело с драматическим ноктюрном. «Каин» был провокационным спектаклем. Взять хотя бы декорации, выполненные в стиле Босха, алтарь-триптих (во втором действии заменённый на огромные карты Вселенной), причудливый фон, актёры, кричащие байроновские строки, глядя в глаза зрителям. Не менее провокационным был и спектакль «Кордиан», во время которого зрители располагались на двухъярусных больших койках и сами становились пациентами. «Мы не стремились к воскрешению религиозного театра, - рассказывает Ежи Гротовский, - наш опыт был скорее опытом «мирского ритуала». Но во всех этих поисках мы избегали одного – возможности сотворения оглупляющего церемониала. В истории нашего коллектива были представления гротескные, не лишённые своеобразного юмора, но мы не играли спектаклей, вызывающих дешевую эйфорию…»
«Театр начинается только с того момента, когда действительно начинает происходить что-то невозможное», - был убеждён Арто. Подобно тому, как социология глубин Жильбера Дюрана предлагает трактовать логос через мифос, театральная концепция Антонена Арто трактует онтологические процессы через театр. Жестокий театр представляет собой не что иное, как имажинэр. Какие спектакли ставились на его сцене, какие темы становились метафизическими доминантами? Арто писал о своём стремлении «концентрировать действие спектакля вокруг выдающихся личностей, жестоких преступлений, сверхчеловеческой жертвенности». Любое действие предполагало достижение предельной точки, где пароксизм не только желателен, но, пожалуй, необходим. «Театр трактуется как физическая сторона человеческого духа. Движение по этому пути – познание смысла творения», - Максимов делает важное замечание. Мы должны воспринимать театр как сакральное пространство; театр – наш онтологический Двойник, открывающий путь к «личному Духовному Вожатому».
В тех кошмарных условиях, в которых мы имеем несчастие находиться, можно прийти к убеждению, что в эпоху постмодерна мистерия вот-вот утонет в потоке беспощадной Леты и современный зритель лишится какой бы то ни было возможности соприкоснуться с мистериальным действом и воочию убедиться в том, что традиция по-прежнему жива, ибо живы её хранители. Но если вы попадете в Тибет, и вам посчастливится стать участником семидневного представления – самой древней мистерии Чам (ей более 10 тысяч лет), вы поверите в то, что пульс Вселенной всё ещё бьётся и чтобы его услышать, надо обратиться к эстетике восточного театра, на которую ориентировались великие режиссёры: Антонен Арто, Ежи Гротовский, Питер Брук, Вс.Мейерхольд, и продолжают это делать Эуженио Барба, открывший для себя традиционный индийский театр катакали, Тадаши Сузуки, имеющий уникальную методику, Бартабас – руководитель конного театра «Зингаро» и многие другие. Наш цивилизованный мир терпит поражение не потому что перестал создавать новое, его немощь проявляется, прежде всего, в том, что он больше не способен продолжать. При всей бескомпромиссности Шпенглер не отрицал за человеком возможности распространения. Речь не идёт о мимесисе, подражании в искусстве. Я говорю о способности продолжения, будь то грандиозные идеи Антонена Арто или «бумажная архитектура» Пиранези. Для того чтобы назвать себя наследником, достаточно иметь смелость и наглость, но чтобы по-настоящему стать им, необходимо обнаружить, во-первых, конгениальность, а во-вторых, взять на себя ответственность, к которой готов далеко не каждый.
Налицо кризис культуры. Антонен Арто усматривал его причину в разрыве мысли и действия, а для «жестокого режиссёра» они были тождественными. За последние века европейцы потеряли многое, но хуже всего то, что им удалось потерять главное – Истину Бытия. Арто хорошо это чувствовал, и его поездка в Мексику не имела иной цели, кроме как поиск этой Истины. В Мексике он получает посвящение от Жрецов Солнца, о чём подробно рассказывает в своей книге «Тараумара», и переживает ритуал умерщвления, принятый у Жрецов Сигури. Во время последнего происходило раскрытие сознания с помощью разделяющего и возрождающего удара мечом, который наносил индийский вождь. Всуе имя Сигури не произносилось. Объяснить Сигури посредством слов едва ли возможно. Это Адам Рухани и одновременно то бессмертное Я каждого из нас, которое должно пробудиться. Сигури – это Человек-Отец, создатель Всего и вместе с тем это особый напиток, сравнимый с божественной Сомой. Выражение «Сигури войдёт в них», употребляемое жрецами, означает пробуждение памяти о творении, происходящее во время ритуала Сигури, когда жрец начинает свой танец и принимает Пейотль. Арто также довелось его принять. «Пейотль возвращает «я» к его истинным истокам». В Мексике Арто удостаивается чести присутствовать при ритуале вождей Атлантиды, описанном Платоном в «Критии». Врезается в память фраза, которую автор книги «Тараумара» поместил в хитросплетение строк как некий галлюциногенный ключ: «Сигури был человеком, человеком, который в космосе сотворил себя самого из себя самого, когда Бог его убил». Тот, кто пришёл после Бога. Перформер. Антропологический траект. Но чтобы не произносить имя Сигури всуе, я избегну добавления слова «актёр».
Мы можем рассмотреть кризис театра на примере исторического развития театра в Японии. Отношения человека и пространства никогда не были простыми. Одними пространство воспринимается как добыча, должная быть завоёванной, другие находятся в нём как элементы настолько чуждые каждому вместилищу, что норовят выбросить себя за его пределы; пространство может вызывать страх и для того, чтобы испытывать постоянное головокружение, необязательно становиться канатоходцем; в пространстве можно находить (ся) и теряться (ся), жать и сеять, блуждать без цели и совершать каждый шаг, будучи уверенным в том, что он единственно верный. Пространство в такой же степени банка с пауками или камера смертника, в какой жилище божества. Великий поэт Иосиф Александрович Бродский считал пространство ближайшим родственником небытия, ведь по сути своей оно пусто, и в этом смысле пространство есть обитель всего преходящего. Пространство, в котором действует актёр – это здание самого театра. В средние века его называли «дза», что в буквальном переводе означает «цех», но термин «дза» имеет и эзотерическое значение. Он также применялся по отношению к чистому, сакральному месту, - месту, где живёт божество. Аналогичным образом слово «до» («храм», «зал») означает как здание театра Но, так и постройки на территории буддийских храмов. Словом «сайдай» называли сцену. В переводе оно означает «священные подмостки». В XX веке его заменили словом «бутай» и сцена превратилась в «подиум для танцев». В давние времена за плохую игру актёра могли подвергнуть жестокому наказанию. Известны случаи принудительного совершения харакири и ссылок на заброшенные острова. Безусловно, такие меры привели к улучшению исполнительной техники актёров, ибо никому не хотелось оказаться повинным в испорченном представлении. К сожалению, в нынешнее время дурная игра более не считается моветоном и в актёрской игре хватает посредственностей. Ни для кого не секрет, что театр возник из ритуала, а предтечей актёра был не кто иной, как шаман. Но каким именно был тот самый ритуал точных сведений не сохранилось, а значит, нам остаётся область догадок. По распространённому мнению ритуал имел отношение к поклонению ками (божествам), целью которого было снискать их расположение. Первые ками-мацури (поклонения богам) включали в себя встречу, развлечение и угощение, и, наконец, проводы ками. Автор «Истории японского театра» Н.Г.Анарина пишет, что «тройственная структура передавала представления древних о непрерывной цепи, циркуляции осквернённости кэ и очищения харэ как закона жизни. Осквернённость повседневностью вызывала необходимость очищения, выхода к духообращению и возвращения с новыми силами в повседневность. Жизнь как круговорот кэ-харэ-кэ». Ками-мацури были одной из форм первых ритуалов Кагура, которые возникли в период Яёй (бронзово-железный век). Как и следовало ожидать, время, этот великий разрушитель, постепенно лишило Ритуал его энигматического, сакрального духа, и все последующие изменения приводили лишь к тому, что профанный мир безнаказанно вторгался в область божественного. В XVII веке Кагура обретает развлекательный элемент, но, даже, невзирая на это, традиционный ритуал продолжает жить в синтоистских святилищах. Современная форма Кагура сохранила древнюю трёхчастную структуру ритуала-игры: по-прежнему он начинается с подготовки-очищения сакрального места, предназначенного для божества (в традиционном театре сцена мыслилась как священное пространство), всё так же божество требуется увеселить, и в заключительной части ритуала проходят его проводы. Начиная с периода Хэйан (794-1192) стала развиваться народная игровая культура. Уже представления Саругаку явились первым популярным увеселительным зрелищем, и место божества занимает человек: теперь не шаман в состоянии богоохваченности появляется во внеземном пространстве, а актёр («перевоплощённый», но более не вдохновенный), увеселяющий зрителя, а не справляющий ритуал. И на лице его не магический предмет, коим считалась маска («обитель божества»), а попросту личина. Возникает разделение на актёра и зрителя, но, кроме того, актёры стали нередко получать приглашения выступить в храмах «для увеселения и развлечения прихожан после службы». Буддийские монастыри уже вскоре стали иметь свой актёрский штат. Ежи Гротовский был абсолютно прав, когда назвал спектакль «выродившимся ритуалом». Возвращаясь к первым ками-мацури, следует отметить, что участники ритуала были преисполнены потустороннего страха перед небытием – самым древним чувством, присущим только человеку, ибо он единственный, кто способен осознать свою смертность. Значительную роль в ритуале играла маска, которая считалась магическим предметом. Надевая маску, шаман достигал сверхличностного состояния и покидал профанный мир. Почтительное отношение к маске не изменялось в течение веков. По легенде, первые маски создавались богами; до XVII века их вырезали монахи, актёры и скульпторы, давая своим маскам имена.
Нам нужен театр, опасный как пропасть, в которую заглядывал Артюр Рембо и над которой продолжает кружить тень пророка Уильяма Блейка, театр, где нарушены границы между «я» и «ты», где уничтожать одинаково отрадно, как и быть уничтоженным. Вот театр, появления которого ждут изгнанные со священных подмостков боги. Театралиада XXI века – это рождение новой музы. Какой она придёт в этот мир: смеющейся, в окружении фавнов или загадочно-молчаливой, как Гарпократ, неизвестно. Определённо лишь одно – эта Муза не возвестит о своём рождении плачем.